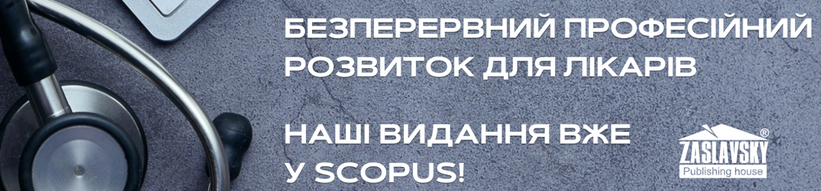Газета «Новости медицины и фармации» Психиатрия (315) 2010 (тематический номер)
Вернуться к номеру
Катарсис и моральная терапия (II) в учении Аристотеля
Авторы: Solbakk J.H.
Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway
Версия для печати
Задача этой статьи — выяснить, может ли катарсис как поэтическая концепция Аристотеля способствовать решению некоторых дидактических проблем в процессе обучения студентов медицинских специальностей совладанию со сложными в моральном отношении или с трагическими ситуациями принятия профессиональных решений. Другая задача этого исследования — показать, что Аристотелевы критерии разграничения понятий «история» и «трагедия» позволяют преобразовать реальные истории болезни в трагические истории болезни. Кроме того, анализируются дидактические возможности трагических историй болезни. В целом же это исследование посвящено вопросу о том, насколько толкование Аристотелева понятия трагического катарсиса может способствовать развитию терапевтической концепции медицинской этики, проанализированной в предыдущей публикации о катарсисе и моральной терапии Платона.
Введение
Эта статья посвящена изучению противоречивого толкования Аристотелем понятия трагический катарсис в Поэтике. Существует три причины для ограничения исследования только Поэтикой. Во-первых, есть основания полагать, что Аристотелева концепция поэтического катарсиса представляет собой «некий ответ Платону» (Nussbaum, 1992, p. 281). Во-вторых, в свое определение трагедии в Поэтике Аристотель вложил противоречивую связь между катарсисом и эмоциями сострадания (eleos) и страха (phobos). В-третьих, резонно полагать, что исследование эмоционального потенциала Аристотелевой поэтической концепции катарсиса может привести к прояснению некоторых дидактических проблем в процессе обучения студентов медицинских специальностей совладанию со сложными в моральном отношении или с трагическими ситуациями принятия профессиональных решений, а именно когда приходится принимать решения с возможными катастрофическими последствиями для одного или для нескольких пациентов, хотя в то же время совершенно ясно, что выбора как такового или же выбора, свободного от некоторой доли ошибочности или вины (hamartia), избежать невозможно.
Я утверждаю, что преподавание медицинской этики сконцентрировано главным образом на ее инструментальных аспектах, а именно на разъяснении и уточнении концепций, методологическом анализе конкретных клинических случаев, обсуждении стратегий и теорий решения моральных дилемм. В то же время игнорируется катартическая роль, которую сострадание, страх и другие болезненные эмоции, например гнев и фрустрация, могут играть в процессе морального дискурса и научения. В связи с этим я также надеюсь показать, что возможности развития терапевтической концепции медицинской этики, продемонстрированные в предыдущей публикации о катартическом лечении и моральной системе Платона, могут быть расширены благодаря толкованию Аристотелева понятия трагического катарсиса.
Поэтическое описание катартического лечения
Один из аргументов, подтверждаемых в этом разделе, — справедливость утверждения Nussbaum о том, что Аристотелева концепция поэтического катарсиса подана как ответ Платону, главным образом на его трактовку понятия катарсис в Федоне и Республике. С другой стороны, ограничивая свое поле исследования двумя наиболее идеалистическими диалогами Платона, каковыми являются Федон и Республика, Nussbaum теряет возможность подтвердить тот факт, что концепция катартического лечения, предложенная в диалогах Хармид и Софист, полностью совместима с концепцией трагического катарсиса в Поэтике Аристотеля.
По мнению J. Hardy (Hardy, 1932, p. 16), в греческой литературе нет более известного пассажа, чем десять слов из Поэтики, которые являются драматическим определением катарсиса как связанного с болезненными эмоциями сострадания (eleos) и страха или ужаса (phobos). Пассаж, который на протяжении столетий вызывал «потоки откликов» (публикация на немецком языке: Flut von Schriften, Gudemann, 1934, p. 167), таков:
Трагедия есть подражание действию — важному и законченному, которое имеет [определенный] объем, — [производимое] речью, приукрашенной по-разному в разных ее частях, [производимое] в действии, а не в повествовании и совершающее посредством сострадания и страха очищение (katharsis) подобных страстей. «Приукрашенной» я называю речь, имеющую ритм, гармонию и напев, а «по-разному в разных ее частях» — то, что в одних частях это совершается только метрами, а в других еще и напевом*.
Во вторичной литературе не достигнуто окончательного согласия о точном смысле, который Аристотель вложил в свое определение катарсиса. Напротив, предложено множество относительно неравнозначных интерпретаций, к которым я вернусь несколько позже. Сам термин, тем не менее, принадлежит, как упоминалось в предыдущей публикации, к семейству слов (catharos, catharsis, catharmos), которые употреблялись в различных контекстах (Nussbaum, 1992, p. 280-281): «обыденно-практическом, образовательном, медицинском, религиозном, литературном». Согласно Nussbaum, нет оснований полагать, что термин «катарсис» когда-либо отделялся от этого семейства и употреблялся в ином значении. Наоборот, обыденные толкования, например «очищение» или «прояснение», по-видимому, используются чаще всего. Разногласие относительно «катарсиса» в определении Аристотелем трагедии касаются, таким образом, не формального значения слова, а того, какое именно «очищение» или «прояснение» имел в виду Аристотель.
Во вторичной литературе можно выделить по крайней мере шесть различных групп интерпретаций:
В моем анализе я не питаю амбициозных надежд разрешить давние противоречия и установить, какая из упомянутых интерпретаций более всего соответствует Аристотелеву определению трагедии. Моя задача скорее иная, более скромная, а именно, исследовать дидактический потенциал каждой интерпретации в свете процесса медико-морального дискурса и научения. Другими словами, все, чего бы мне хотелось достичь, — это продемонстрировать, как различные интерпретации термина «трагический катарсис» можно использовать для поиска и обоснования разнообразия форм просветления и очищения, вовлеченных в процесс медико-морального дискурса и научения. Осуществляя свое намерение, я также надеюсь прояснить, почему трагические истории болезни следует считать наиболее важными учебными пособиями и источниками знания медицинской этики.
Медицинские интерпретации «трагического катарсиса»
Одна из имеющих наибольшее отношение к медицине интерпретаций трагического катарсиса, до настоящего времени оживленно обсуждаемая в литературе, была предложена J. Bernays, дядей супруги Зигмунда Фрейда. В своей значительной работе, опубликованной в 1857 году, Bernays выдвинул аргумент в пользу того, что посещение трагических спектаклей может оказывать непосредственное терапевтическое воздействие на зрителя — в том смысле, что это может очищать и освобождать его от давления нежелательных эмоций сострадания и ужаса. Для поддержки своей «патологической точки зрения» (на немецком — patologischer Gesichtspunkt) Bernays ссылается на фрагмент из Политики VIII 7.1342a4–16 (Bernays, 1857/1879, p. 158). В этом пассаже, цитированном в предыдущем примечании, Аристотель объясняет смысл и роль катарсиса в отношении жалости и ужаса, сравнивая его с процессом психологического оздоровления, переживаемого людьми в связи с истерическими вспышками эмоций (enthousiasmos) в ответ на катартические песнопения, которые используются как терапевтическое средство. Bernays приводит это сравнение, дабы подчеркнуть, что Аристотель мыслил катарсис как терапевтическое средство для лечения патологических эмоций:
Катарсис, таким образом, становится специальным типом iatreia (термин, означающий «исцеление», который использовался ранее): экстаз превращается в покой посредством оргиастических песен, как болезнь сменяется здоровьем вследствие медицинского лечения — не вследствие любого лечения, а только вследствие того, при котором применяют катартические средства, чтобы победить болезнь. Таким образом, объяснима загадка эмоциональной патологии: мы можем понять ее, сравнивая с патологической телесной реакцией…
…термин катарсис перенесен из сферы соматического в сферу эмоционального и используется для обозначения вида лечения угнетенного человека, который стремится не изменить или подавить угнетающий элемент, а активизировать этот элемент и избавиться от него и таким образом достигнуть какого-то освобождения от угнетенного состояния (Bernays, 1857/1879, p. 159-160).
Основная проблема в отношении психопатологической интерпретации Bernays заключается в том, что она превращает древнегреческий театр в медицинский театр, т.е. в действо, благодаря которому эмоционально нестабильные зрители могут измениться так, чтобы пережить активированные нежелательные эмоции сострадания и ужаса и таким образом от них избавиться. Следовательно, трагический катарсис возникает как что-то такое, что приберегается для людей с эмоциональными расстройствами, а не для зрителей со здоровой психикой. Как заметил Lear:
…единственная причина понимать катарсис как метод лечения патологического состояния заключается в том, что первый пример катарсиса у Аристотеля — это лечение религиозного экстаза. Тем не менее, даже если мы считаем религиозный экстаз состоянием патологическим, идея об использовании катарсиса в отношении патологического состояния может быть подтверждена лишь благодаря игнорированию важного утверждения Аристотеля, которое содержится в цитированном тексте. Начиная свою дискуссию о катарсисе с примера подверженности религиозному безумию, Аристотель далее говорит, что то же самое происходит со всяким, кто испытывает сострадание и страх и — в более общем смысле — со всяким, кто эмоционально воспринимает происходящие события. Дабы не осталось никаких сомнений, что Аристотель намерен включить всех нас в эту категорию, он продолжает: «определенный катарсис и облегчение с удовольствием происходит у каждого» (Lear, 1992, p. 316-317).
Более того, эта психопатологическая интерпретация явно отличается от утверждения, сделанного несколько позже в Политике, согласно которому в театре есть место для каждого — как для свободных и образованных, так и для ремесленников, рабочих и им подобных (Политика VIII 7.1341a17–21).
Иной подход к сути катарсиса в Политике (VIII 7.1342a4–16) и, следовательно, к Аристотелеву определению трагедии в Поэтике (1349b25–30), который, по-видимому, оправдывает медицинские аллюзии без превращения трагического катарсиса в терапевтическое средство, предназначенное для эмоционально нестабильных людей, предложен Y. Flashar (Flashar, 1956, pp. 12-48). Его альтернатива — раскрыть медицинскую основу толкования Аристотелем сострадания и ужаса. Flashar считает, что до Аристотеля (в частности, у Горгия и Платона) в общепринятых оценках воздействия поэзии сострадание и ужас всегда ассоциировались с рядом соматических симптомов: ужас (phobos) — c дрожью от холода, трепетанием, перебоями в работе сердца и состоянием, когда «волосы встают дыбом»; жалость (eleos) — с плачем и со слезами на глазах. Более того, он считает, что способ проявления этих эмоций и связанных с ними симптомов, представленный в этих описаниях, индуцирует описание и объяснения причины в нескольких трактатах «Корпуса Гиппократа». В них ужас и связанные с ним симптомы рассматриваются как следствие чрезвычайного избытка холода, а жалость и ее соматические проявления в виде слезотечения объясняются воздействием чрезвычайного избытка влажности. Наконец, Flashar вновь обращается к текстам Аристотеля и убедительно показывает, что последний в своем описании сострадания и ужаса, а также в своей теории эмоций полагается на те же медицинские категории, причинные связи и их пояснения, что и его предшественники.
Использование этого альтернативного подхода не приводит к пониманию катарсиса, которое бы полностью отличалось от предложенного Bernays. Что действительно открывает нам подход Flashar, так это обилие медицинских концепций и способов объяснения в общей теории эмоций Аристотеля. Следовательно, трагический катарсис сохраняет свое значение «очищения», но не в смысле «эмоциональной патологии», описанной Bernays (Bernays, 1857/1879, p. 159), а как психосоматический, т.е. нормальный процесс выражения эмоций, описанный в Аристотелевой общей теории эмоций. Как замечено Lear, в пользу такой интерпретации свидетельствует также факт, что чаще всего Аристотель использует «катарсис» при описании выделений, характеризующих нормальное телесное функционирование, например менструальных выделений, извержения семени или мочеиспускания (Lear, 1992, p. 315).
Трагический катарсис как эмоциональное и интеллектуальное просветление
Одним из первых ученых, предположивших, что катарсис означает эмоциональное и интеллектуальное «просветление», был L.A. Post. Его перевод фрагмента о катарсисе звучит следующим образом: «Трагедия оказывает эффект просветления, привнося в сознание воображаемые сцены горя и ужаса и освобождая его таким образом от озабоченности своими собственными подобными эмоциями» (Post, 1951, p. 267). L. Golden, наиболее последовательный приверженец когнитивной интерпретации трагического катарсиса, приводит доводы в пользу того, что это прочтение наилучшим образом соответствует общей линии аргументации Поэтики:
…из первой главы Поэтики (47a13–16) мы узнаем, что поэзия является разновидностью mimesis [т.е. подражания]; из четвертой главы (48b4–19) мы начинаем понимать, что неотъемлемая характеристика и цель mimesis — это опыт научения; в девятой главе (51b5–10) эта мысль подтверждается и проясняется, когда нам говорят, что поэзия более философична и многозначительна, чем история, потому что она направлена на выражение общего, а не частностей… В четырнадцатой главе (53b10–14) нам сообщают, что специфическая положительная особенность трагедии выводится «из сострадания и страха посредством mimesis», и мы приходим к заключению, что целью трагедии должно быть интеллектуально позитивное приобретение опыта, связанного с феноменом сострадания и страха в человеческом существовании; поскольку катарсис и связанные с ним понятия используются Платоном, Эпикуром, Филодемом и другими учеными в значении интеллектуального просветления, вполне оправданно в шестой главе придавать этому термину интеллектуальную значимость, что делает его интегральной частью общей аргументации Поэтики (Golden, 1973a, p. 45) .
Одно замечание относительно интерпретации Golden, которое, как я считаю, стоит учитывать, что бы ни думать о катарсисе как об интеллектуальном просветлении, — это то, что Keesey называет «неоднозначностью» и «продуктивной неопределенностью» термина: «Он не останется неизменным»; в том смысле, что, вероятно, его можно употреблять на нескольких уровнях и в отношении различных ситуаций (Keesey, 1979, p. 201-202). В последнем пункте этого раздела я еще вернусь к этому замечанию.
Воспитательные и моральные интерпретации «трагического катарсиса»
Со времен неоклассицизма воспитательные и моральные интерпретации катарсиса сыграли центральную роль в дискуссии об определении трагедии Аристотелем. Очень популярный, хотя и несколько поверхностный вариант суждения, изложенный Halliwell, указывает на существование прямой связи между трагическим катарсисом и обучением этике:
…трагедия обучает зрителей на примере — или на контрпримере — сдерживать собственные эмоции и греховные помыслы, которые могут вызываться этими эмоциями: мы научаемся посредством катарсиса избегать страстей, которые могут привести к страданию и трагедии (Halliwell, 1986/2000, p. 350-351).
Более разработанная и детализированная версия такого комментария предложена Bernays на основе текста G.E. Lessing. В своей Hamburgische Dramaturgie Lessing утверждает, что термином «трагический катарсис» Аристотель просто обозначил «метаморфозу» сильных эмоций в добродетель.
Таким образом, если быть кратким, то это очищение не представляет собой ничего, кроме превращения страстей в добродетели, и поскольку, по мнению нашего философа, каждая добродетель расположена между двумя противоположностями, из этого следует, что трагедия, если она превращает наше сострадание в добродетель, должна быть способна очищать нас от обеих крайностей сострадания; все это справедливо в отношении страха (Lessing, 1767–8/1978, p. 380).
Непосредственное значение комментария Bernays по поводу этой интерпретации заключается в том, что он трактует трагедию как «источник нравственного исправления, в котором должно содержаться средство для каждого недозволенного проявления сострадания или страха» (Bernays, 1857/1979, p. 155). Halliwell, со своей стороны, считает, что интерпретация Lessing «близка к истине», обосновывая это определением роли эмоций в Аристотелевой теории морали (Halliwell, 1986/2000, p. 313).
Для любого читателя Никомаховой этики очевидно, что ее автор приписывает эмоциям чрезвычайно важную роль в нравственном воспитании и формировании хорошего характера. Аристотель утверждает, например (Никомахова этика, III, 7), что человек может научиться принимать правильные решения и становиться хорошим, развивая способность или умение реагировать на ситуации соответствующими эмоциями, которые, по Аристотелю, всегда представляют собой среднее между двумя крайностями. Человек, который научается такой манере поведения, в конце концов сможет использовать свои эмоциональные реакции на ситуации как руководство для принятия хороших и правильных решений. Следовательно, он приведет себя «ближе к середине, где лежит добродетель», и, поступая таким образом, станет обладателем «добродетельного характера» (Janko, 1987, p. XVIII).
Распространенная точка зрения среди приверженцев моральной интерпретации трагического катарсиса такова: Аристотель расценивал трагедию как чрезвычайно подходящее средство воспитания эмоций и формирования характера; благодаря трагедии мы можем научиться узнавать и развивать уместные эмоциональные реакции, не подвергая себя в реальности тем ситуациям, которые разыгрываются в пьесах. Как мы должны представлять себе функцию и роль трагического катарсиса в воспитании характера? Вот одно из объяснений действия трагического катарсиса (Janko, 1987, p. XX):
Воспроизводя события, достойные сострадания, вселяющие ужас и другие тягостные ощущения, трагедия вызывает сострадание, ужас и другие болезненные эмоции у зрителей, у каждого в соответствии с его собственными эмоциональными возможностями, стимулируя эти эмоции так, чтобы высвободить их благодаря умеренному и безопасному действу, приводя зрителей ближе к средним значениям их эмоциональных реакций и, таким образом, ближе к добродетельности их характеров; с этим освобождением приходит удовлетворение.
Эта интерпретация представляет известную точку зрения, согласно которой трагический катарсис обеспечивает нравственное обучение посредством воспитания эмоций. Как заметил Lear, убедительность этой и подобных интерпретаций (House, 1956; Nussbaum, 1986; Halliwell, 1986/2000) обусловлена отчасти их точным соответствием Аристотелевой теории эмоций, а отчасти их способностью пояснить то «особое удовлетворение, которое мы получаем от разыгрывания трагедии» (Lear, 1992, p. 318-319).
Трагический катарсис как эмоциональное утешение
И все же, несмотря на «огромные преимущества» описанных выше интерпретаций, Lear считает, что ни одна из версий «воспитательной интерпретации» не выдерживает проверки. Он также отвергает медицинскую интерпретацию Bernays и другие похожие интерпретации. Собственное предположение Lear о том, как нужно интерпретировать трагический катарсис, таково: Аристотель имел в виду особого рода утешение зрителя посредством игрового действа, благодаря которому трагические эмоции высвобождаются в безопасном окружении. Таким образом, зрителю предоставляется возможность приобрести опыт эмоционального переживания того, как прожить наихудшие жизненные ситуации, сохраняя достоинство:
Это переживание трагических эмоций в подходяще неподходящей обстановке, которая, я думаю, помогает объяснить наше ощущение утешения в театре. Мы в воображении живем полной жизнью, при этом ничем не рискуя. Утешение, таким образом, не есть «высвобождение сдерживаемых эмоций» per se, это утешение посредством «высвобождения» этих эмоций в безопасном окружении (Lear, 1992, p. 334).
Lear допускает, тем не менее, что отнесение переживаемого здесь утешения к категории «катарсис» не обеспечивает всестороннего описания и поэтому остается довольно неопределенным относительно какого-либо дальнейшего обоснования его содержания. Фактически Lear ограничивается коротким упоминанием определенных видов «утешения», присущих Аристотелевой концепции трагедии, например, рациональности мира трагических событий, правдоподобию этих событий и наличию определенного проступка или ошибочного действия (hamartia), четко объясняющего падение или злоключение героя трагедии (Lear, 1992, p. 334-335). В последней части этого раздела я вернусь к термину hamartia и его возможной роли в прояснении загадки трагического катарсиса.
Эстетические, драматические и структуральные интерпретации трагического катарсиса
Эта группа интерпретаций отличается от уже описанных тем, что понятие трагического катарсиса связано главным образом не со зрительской аудиторией, а с сутью самого поэтического произведения. Иными словами, трагический катарсис отображает определенное эстетическое расположение материала в пьесе, вызывающего сострадание или ужас, так что он соответствует цели или форме пьесы (Goldstein, 1966, p. 574). Следовательно, удовлетворение, полученное от пьесы, является удовлетворением эстетическим (Keesey, 1979, p. 200). Эти интерпретации Halliwell назвал «драматическими» или «структуральными», а не «эстетическими» (Halliwell, 1986/2000, p. 356). Наиболее выдающийся среди авторов подобных интерпретаций — G.F. Else. Он представляет себе катарсис как очищение от трагического действия «посредством демонстрации того, что его мотив не был miaron* [т.е. морально недопустимым]» (Else, 1957, p. 439). И такой катарсис, продолжает Else, совершается «всей структурой драмы, но превыше всего пониманием» (р. 439). Таким образом, становится ясно, что это понимание (anagnoresis) является структуральным, «предоставляющим возможность герою доказать, что он действительно совершил деяние di'' hamartian tina (из-за какой-то ошибки) и поэтому заслуживает нашего сострадания» (Keesey, 1979, p. 200). Как заметил Halliwell (1986/2000, p. 356), это свидетельство того, что даже теория Else не свободна от эмоциональных трактовок.
Комплексные или «целостные» интерпретации катарсиса
Хотя Keesey привлекает внимание к «продуктивной неопределенности» и «уклончивости» слова катарсис в Аристотелевом определении трагедии (Keesey, 1979, p. 201-202), Laín Entralgo, — по-моему, единственный ученый, который защищает комплексное или холистическое определение трагического катарсиса. Он оперирует четырехуровневой структурой трагического катарсиса и пытается, соответственно, выделить четыре различных стадии душевного состояния у зрителя трагедии. При первом — религиозно-моральном — уровне и первом состоянии души «интерпретация Аристотелева катарсиса должна содержать в качестве отправной точки фундаментальный факт — глубоко религиозный характер греческой трагедии от Феспида до творений последних авторов трагедии» (Laín Entralgo, 1970, p. 204). Следовательно, трагическая ситуация, вокруг которой разворачивается драматическое действо, приводит к столкновению зрителя с конфликтом, который не просто воспроизводит религиозный контекст, вызывая у зрителя религиозные эмоции и воспоминания. Это происходит и вследствие самой сути религиозного конфликта — конфликта между верой и повиновением богам и стремлением героя к поиску и достижению самоопределения. «И, таким образом, — утверждает Laín Entralgo, — не только в трагических эмоциях зрителя, в его сострадании и страхе, присутствует существенный религиозный и нравственный компонент. Он также присутствует в катарсисе тех страстей и в удовлетворении, который обязательно сопровождает последнее. Фатальная или счастливая развязка трагедии преобразует существование, проясняя то, что наиболее важно и значимо в его структуре, а именно его связь с божественным» (Laín Entralgo, 1970, p. 231-232).
Второй аспект восприятия зрителем трагедии — дианетический (относящийся к интеллекту) или логический, т.е. тот, который выражает у зрителя знание происходящего в пьесе и одновременно в нем самом: «Посредством anagnôrêsis (понимания) зритель учится последовательно и адекватно выражать то, что происходит на сцене и что происходит в его душе; он проходит, таким образом, путь от невыразимого замешательства до четко сформулированного осознания» (Laín Entralgo, 1970, p. 233).
Третий аспект восприятия зрителем трагедии и наиболее известный атрибут Аристотелевой концепции трагедии — патетическая или эмоциональная стадия.
Трагический катарсис был, без сомнения, «очищением» или удалением эмоций, которых не было в душе до просмотра трагедии, и он становится возможным, когда эмоциональное напряжение достигает своего пика. Но импульс, открывающий путь процессу катарсиса, не пришел к зрителю «снизу» — из его внутренностей или из жидкостей организма, хотя должен заметить, что трагический аспект восприятия должен затронуть и то и другое, а «сверху», из дианетического просветления, вызываемого logos поэтического произведения. Слова трагической поэмы, в зависимости от того, насколько они задевали убеждения зрителя, возбуждали и усиливали страсти; кульминация этих слов, в зависимости от того, насколько она выражала ужасное, угрожающее и непредсказуемое в судьбе, вызывала чрезвычайное эмоциональное напряжение; в зависимости от того, насколько эти слова обусловливали просветленное знание, они уничтожали в душе смятение и вызывали катарсис. Не только в философии, но и в трагедии logos превосходит ethos и pathos (Laín Entralgo, 1970, p. 233).
В качестве четвертого отличительного свойства, необходимого для понимания восприятия зрителем трагедии, Laín Entralgo выделяет «соматический или целебный аспект трагического катарсиса». Пьеса воздействует не только на разум и душу зрителя; она затрагивает также его волосы и жидкие среды организма в том смысле, что «агент трагического катарсиса» — т.е. слово — превращает «crasis (смесь или составляющие) зрителя в более сбалансированное и естественное, следовательно, более здоровое и приятное — гуморальное и термическое — состояние, по сравнению с тем, которое непосредственно предшествовало процессу катарсиса» (Laín Entralgo, 1970, p. 235). Таким образом, становится очевидным, что такое очищение или прояснение, вызываемое трагическим катарсисом, приносит порядок, просветление и в то же время удовлетворение всему организму (Ibid., p. 236). Laín Entralgo задается вопросом: не является ли это вызванное катарсисом упорядоченное и просветленное состояние разума тем самым, что Сократ старался возбудить в душе молодого Хармида посредством своей моральной системы, и тем, чему Платон хотел дать такое известное название sophrosyne* (Ibid., p. 237)?
Трагический катарсис: неоднозначность в неопределенном контексте
Прежде чем завершить аналитическую часть этого раздела, необходимо вернуться к двум наблюдениям, сделанным во время анализа: наблюдению относительно неоднозначности и продуктивной неопределенности «трагического катарсиса» и наблюдению относительно роли hamartia в создании трагических конфликтов и ситуаций. Я намереваюсь более внимательно изучить идею, лежащую в основе понятия hamartia и представленную в 53а13–17 Поэтики, и выяснить, действительно ли оно помогает понять неоднозначность и продуктивную неопределенность «трагического катарсиса» и гетерогенности существующих интерпретаций. Во фрагменте Поэтики, содержащем понятие hamartia, утверждается, что в «наиболее возвышенной» трагедии (в качестве примера приводится Эдип-царь Софокла) злоключения трагического персонажа вызваны не его злодеянием, а обусловлены огромной hamartia самого персонажа. С тех пор как Аристотель написал эти строки, значение hamartia в отношении греческой трагедии является предметом полемики, по своей интенсивности и масштабам сравнимой разве что с таковой относительно катарсиса в 49b23–31 Поэтики. В своей недавней статье я представил детальный анализ этой полемики и постарался показать, как широко разнообразие интерпретаций hamartia, варьирующихся от исключительно эпистемологических формулировок ошибочности, таких как «искажение факта», «игнорирование факта», «ошибка суждения», «ошибка вследствие неадекватного понимания некоторых обстоятельств», до полноценных формулировок моральной несостоятельности, таких как «моральная ошибка», «нравственный дефект», «моральный порок», «моральное несовершенство», «дефект характера» и «трагическая виновность». Этот перечень отражает разнообразие использованных Аристотелем интриг и ситуаций (Solbakk, 2004, pp. 105-112). По моему мнению, это указывает на то, что сам Аристотель наполняет hamartia очень широким значением и возможностью использования, благодаря чему его концепция трагедии способна охватить многочисленные личные интриги и ситуации, которые он использует. Это подтверждает фраза из Поэтики 13, непосредственно предшествующая фрагменту, содержащему понятие hamartia (53а10), которая ясно указывает, что Аристотель имел в виду не один специфический вид hamartia, а «какой-то вид hamartia» (hamartia tina). Эти выводы о широте значения и разнообразии применения hamartia, я уверен, помогут понять неоднозначность и продуктивную неопределенность «трагического катарсиса», а также гетерогенность их интерпретаций. Я предлагаю следующее умозаключение: если верно, что Аристотель пытался создать свою концепцию трагедии, охватывающую все разнообразие имевшихся в его распоряжении интриг и ситуаций, тогда, по-видимому, термин hamartia должен наводить на мысль, что понятие катарсис должно быть также достаточно широким и многозначным. Другими словами, как значение понятия hamartia может существенно меняться от пьесы к пьесе, так, соответственно, и тип трагического катарсиса, пробуждаемого различными пьесами, должен меняться.
Дидактические возможности трагического катарсиса
Теперь настало время выяснить, действительно ли дидактическое значение Платоновой концепции катартической терапии и холистического подхода к лечению, проанализированной в предыдущей статье, может быть расширено благодаря толкованию Аристотелева понятия трагического катарсиса. Использование концепции Платона о катартическом режиме в дидактических целях заключалось в том, что процесс морального научения не ограничивается очищением или прояснением рациональных частей души; он охватывает всю душу — ее рациональные части, инстинктивные потребности, убеждения, эмоции и желания. Раскрывая широту и многогранность значения и использования концепции трагического катарсиса, мы можем, наконец, более точно ответить на вопрос, что же, собственно, переживают и усваивают студенты медицинских специальностей, посещая занятия по медицинской этике. Прежде всего, это прокладывает путь психосоматической концепции морального просветления и научения. Как трагические события воздействуют на разум и душу зрителя, а также на его телесность (волосяной покров, гуморальные среды), так и трагические ситуации принятия медицинских решений могут вовлекать психосоматическую целостность студентов в учебной ситуации. Как отмечает Flasher, Аристотель, описывая трагические эмоции, указывает на одну особенность: они всегда сопровождаются соматическими симптомами. Так, сострадание сопровождается плачем и слезами, страх и ужас — дрожью, сердцебиением и реакцией волосяного покрова кожи. Во введении к этой статье я высказал мнение о том, что лекции по медицинской этике сфокусированы главным образом на рассмотрении инструментальных вопросов, например на прояснении и уточнении концепций, методологическом анализе клинических случаев, рациональных стратегиях и теориях разрешения моральных дилемм. При этом игнорируется катартическая роль сострадания, страха и других болезненных эмоций, например гнева или замешательства, которую они могли бы сыграть в процессе морального просветления и научения.
Этим я не отвергаю инструментального значения таких форм анализа и уточнения. Тем не менее я убежден, что изучающие медицинскую этику студенты могли бы достигать бульших успехов, если бы в процессе их обучения преподаватели уделяли более серьезное и систематическое внимание катартической роли сострадания и страха. Очевидно, что понимание Аристотелем трагического катарсиса может быть особенно полезным, потому что оно позволяет использовать для обучения эти эмоции и их связь с нашими наиболее чувствительными и, возможно, наиболее хрупкими моральными способностями и складом характера. Другими словами, предоставление студентам трагических историй болезни — рассказанных или представленных, — медицинских ситуаций, вызывающих сострадание и страх, позволяет им в безопасном окружении научиться тому, как проживать ситуации принятия медицинских решений, находясь под двойным давлением, т.е. когда необходимо принимать решение, в любом случае сопряженное с какой-то погрешностью или с виной (hamartia). Студенты должны научиться признавать, что такова суть трагического выбора: даже когда решение принято, моральная неопределенность и двойственность сохраняются (Østerud, 1976, 75-76). Наконец, подвергаясь воздействию трагического катарсиса и просветления, студенты смогут осознавать границы собственной моральной компетентности и возможностей, а также моральных возможностей и компетентности своих учителей. Надеюсь, что это могло бы способствовать развитию их скромности и этической мудрости.
Создание трагических историй болезни и их воспитательное значение
Раскрытие широты и многогранности Аристотелевых понятий hamartia и «трагический катарсис» теперь позволяет более точно определить, какие нарративы о принятии терапевтических решений следует квалифицировать как трагические истории болезни. Для этого я предлагаю использовать разграничение Аристотелем понятий «трагедия» и «история» (Поэтика 51а37–b33). Согласно первой отличительной характеристике, история повествует о событиях, которые уже произошли, а трагедия касается событий или явлений, которые могут случиться. В этом причина того, что поэзия, особенно трагическая, более философская, чем история; она повествует об общих закономерностях, а история рассматривает частности. «Общее, — говорит Аристотель, — это нечто, что определенный индивид может правильно сказать или сделать в соответствии с необходимостью или с вероятностью; именно это и стремится [показать] поэзия, давая [героям вымышленные] имена. А частность — это, например, что сделал или претерпел Алкивиад» (Поэтика 51b37–b33). Это важное замечание об использовании исторических имен в трагедиях и, следовательно, о репрезентации событий, которые действительно имели место, свидетельствует о том, что не все в трагедии является вымыслом. Но еще важнее объяснение, которое Аристотель дает по поводу использования поэтом исторического материала. Для того чтобы трагическое повествование выглядело достоверным, оно должно быть возможным, и то, что случилось, говорит Аристотель, — явно возможно. Следовательно, используя события, имена или вещи, которые действительно существовали или имели место, как шаблоны для придания формы трагической интриге, поэт свободен в том, чтобы «самому делать находки» целого, которое могло иметь место (Поэтика 53b23–27). Таким образом, из творческого преобразования исторического и частного возникают не воображаемые описания и не замечательные мысленные эксперименты, а сюжеты, которые вполне возможны и в то же время имеют общечеловеческую значимость и ценность.
Чтобы проиллюстрировать значимость разграничения между историей и трагедией для медицинской проблематики и критериев их разграничения для принятия решений, я предлагаю более детально рассмотреть историю болезни, опубликованную 16 июня 2004 года в Gardian (Великобритания).
Сиран родился недоношенным (в сроке беременности 25 недель). С момента рождения ребенка его родители Крис Кейн и Шарлотт Лэм почти постоянно находились в больнице. Они дежурили возле кроватки своего крошечного сына, с любовью заботясь о нем, хотя он был не способен усваивать даже молоко. Спустя три месяца Криса и Шарлотт попросили принять наиболее тяжкое решение в их жизни. Консультанты Сирана обсуждали возможность прекращения интенсивной терапии и отключения системы искусственной вентиляции. До этого момента дважды состояние было критическим, но его «вытягивали». Родители надеялись, что так будет и на этот раз. Но что, если нет? Ранним утром Крис мерил шагами пустые больничные коридоры. Шарлотт сидела, уставившись в стену палаты их крошечного сына. Оба они страстно желали, чтобы Сиран бросил вызов врачам и его состояние начало улучшаться…
Поскольку состояние Сирана постепенного ухудшалось, консультант неонатального отделения д-р Вилф Келсал пригласил родителей ребенка, чтобы сообщить им о тяжести его состояния. Он сказал: «Вы достигли момента, когда испытано все возможное — все лекарства, все процедуры, но состояние ребенка не улучшается, напротив, наблюдается значительное ухудшение. Родителям очень тяжело это слышать. Для нас это тоже очень трудно — изменить тактику лечения после стольких недель борьбы за жизнь малыша…»
Др. Келсал — средоточие всех наилучших качеств неонатолога. Он очень внимателен, энергичен, а порой и самокритичен. Спустя почти двадцать лет работы в педиатрии он впервые осознал, что технические возможности его профессии могут порождать серьезные дилеммы. «Мы можем предпринимать героические терапевтические усилия, поддерживая жизнь самых маленьких и самых слабых детей, но, несомненно, наиболее тяжелая часть нашей работы — принять решение о прекращении вмешательства и помочь родителям смириться с тем, что дальнейшее лечение бесполезно. Иногда нам, как специалистам, легче просто продолжать лечение, невзирая на его бессмысленность…»
Д-ру Келсалу неоднократно приходилось принимать такие решения, но каждое последующее не менее трудное, чем предыдущее. «Иногда ты идешь на дежурство с тяжелым сердцем, если у тебя в отделении ребенок в тяжелом состоянии без надежды на улучшение. Имея дело с такой ситуацией, к концу рабочей недели ты чувствуешь себя совершенно измученным».
Утешение для Криса и Шарлотт в том, что они приняли решение, исходя из безграничной родительской любви. Крис говорит: «Это нелегко понять. Мы настолько любили его, что не хотели терять, но мы слишком сильно любили его, чтобы подвергать страданиям. Мы сделали то, что считали для него наилучшим».
Несомненно, это грустная история о безуспешной борьбе за жизнь крошечного ребенка. В то же время это драматическая история о том, что переживают любящие родители и сострадающий консультант, сталкиваясь с технологическими ограничениями и нравственными проблемами неонатологии. Наконец, это динамическая картина того, что произошло с недоношенным ребенком, консультантами и родителями после принятия решения об отказе от терапии: смерть ребенка, переживание облегчения и самоутешение любящих родителей и сочувствующих консультантов. Тем не менее и несмотря на все это, данную историю не следует квалифицировать как трагическую историю болезни.
Чтобы создать трагическую историю болезни исходя из этой реальной жизненной истории, преподаватель медицинской этики должен внести некоторые изменения, почерпнув свои аллюзии из Аристотелева толкования трагедии. Сейчас я хотел бы обратиться к возможности такого преобразования.
Прежде всего следует обратиться к необходимым особенностям трагического персонажа и попытаться преобразовать характеристики одного из действующих лиц рассказанной истории болезни так, чтобы они соответствовали требованиям Аристотеля. Далее в контексте преобразования необходимо принять во внимание Аристотелево обсуждение наиболее подходящих для трагедии способов поведения, событий и обстоятельств. Наконец, применительно к истории маленького Сирана будут использованы предположения Аристотеля о том, что представляет собой трагическая судьба.
В соответствии с представлением Аристотеля о трагическом персонаже, составитель трагедии должен преследовать следующие четыре цели:
Пытаясь приложить эти требования к истории маленького Сирана, мы можем также воспользоваться указанием Аристотеля, сделанным чуть ранее в Поэтике, о том, что трагический герой должен иметь замечательную репутацию и судьбу (Поэтика 53a11–12). Повторное прочтение приведенной истории позволяет понять, что описание консультанта-неонатолога в ситуации с Сираном полностью соответствует всем четырем критериям. Кроме того, он охарактеризован как персонаж с хорошей и долгой профессиональной репутацией.
Выбирая лечащего врача в качестве главного персонажа, вокруг которого конструируется трагическая история болезни, мы теперь должны отыскать соответствующие действия, события или обстоятельства в реальной жизненной истории, которые могут послужить основой или сюжетной линией для создания трагического эпизода. По Аристотелю (Поэтика 53b14–38), существует четыре возможных вида действий или событий, которые могут возбудить в нас страх или ужас и сострадание, а потому квалифицируются как трагические деяния или события:
Среди этих четырех возможных разновидностей трагических действий или событий Аристотель выделяет два последних как наиболее благоприятные варианты, четвертый вариант — как наилучший, а наихудшим считает второй вариант событий (Поэтика 53b39–1454а9). Далее я предлагаю переписать обстоятельства нашего случая так, чтобы они соответствовали третьему варианту трагических событий, т.е. чтобы действие совершалось в неведении относительно того, к каким ужасным последствиям оно приведет. Одна из возможностей переработать приведенную историю в соответствии с этими требованиями — сосредоточить внимание на втором случае критического ухудшения состояния маленького Сирана. Поскольку клиническая картина лишь незначительно отличалась от таковой на момент первого ухудшения, лечащий врач, т.е. наш трагический персонаж, решил следовать той же терапевтической тактике, что и накануне. Единственное изменение, которое необходимо было внести, — откорректировать дозу одного из назначенных препаратов. Врач должен был проконтролировать адекватность дозировки. К сожалению, будучи подавленным в связи с внезапной, неожиданной смертью другого ребенка в его отделении, наступившей часом раньше, он куда-то подевал свой справочник, в который заглядывал, сталкиваясь с нестандартными терапевтическими ситуациями. Времени на поиски справочника у него не было, потому что состояние Сирана критически ухудшилось. Необходимо было срочно что-то предпринять. Следовательно, наш персонаж находился в обстоятельствах двойного давления: у него не было времени на поиски справочника с нужной ему информацией, но в то же время он не мог не предпринять шаги, направленные на спасение жизни ребенка. Испытывая затруднение из-за потери справочника, он не сообщил об этом другим членам терапевтической бригады и вел себя так, будто полностью контролирует ситуацию. Лечение было назначено, и к огромному облегчению нашего персонажа, казалось, что ребенок вышел из тяжелого состояния и на этот раз. Еще большее облегчение он почувствовал, найдя свой справочник и убедившись в адекватности дозировки назначенного Сирану препарата.
Тем не менее двадцатью минутами позже состояние Сирана начало ухудшаться. Поначалу трудно было определить, что послужило возможной причиной этого ухудшения. Но вскоре к своему ужасу наш трагический персонаж обнаружил, что, будучи поглощен мыслями о потере справочника, он утратил бдительность и не заметил смещения интубационной трубки. Вероятной причиной ухудшения состояния ребенка было необратимое нарушение функции мозга вследствие нарушения дыхания. Не раскрывая сути своей ошибки, наш персонаж проконсультировался с остальными членами бригады и решил пригласить семью ребенка.
Чтобы продолжить преобразование реальной истории, я хотел бы использовать применительно к нашему главному персонажу Аристотелево определение «трагической судьбы». По Аристотелю (Поэтика 52b32–53а17), три последующие ситуации не являются событиями, внушающими ужас и сострадание:
Таким образом, остается единственная ситуация, когда с человеком, не превосходящим нас своей добродетельностью и с хорошей репутацией, случается несчастье не из-за порочности или подлости, а в силу какой-то разновидности hamartia.
Чтобы определить разновидность hamartia, совершенной нашим трагическим персонажем, необходимо сначала найти эмоциональный источник той последовательности событий, которая привела его к упущению. К моменту, когда он заметил смещение интубационной трубки, он уже был совершенно измотан из-за внезапной, непрогнозируемой смерти другого ребенка в отделении, произошедшей часом раньше ситуации с Сираном. Таким образом, сострадание, дистресс и горе были компонентами этого несчастливого события с самого начала. Далее оказывается, что в этом случае наш персонаж стал жертвой первой разновидности hamartia — потери своего терапевтического справочника. Я предлагаю обозначить этот проступок как эпистемологический, хотя, как видим, он имеет эмоциональную причину. С другой стороны, второй проступок — то, что он из-за смущения и гордости не сообщил своим коллегам о потере справочника, — является, очевидно, моральным проступком. Что же можно сказать о его третьем проступке, который непосредственно связан с ухудшением состояния Сирана? Был ли он эпистемологическим или моральным? Или это был комплексный проступок, т.е. проступок вследствие эмоциональной, эпистемологической и в равной мере моральной разновидности hamartia? Предположим, что наш персонаж имел смелость повести себя по-другому в первом случае; предположим, что вместо того, чтобы молчать, он сообщил коллегам о потере терапевтического справочника. Предположим, что раскрытие этого секрета заставило бы и его, и его коллег быть более внимательными к тому, что происходит с их пациентом, и поэтому он (они) не пропустил бы смещения интубационной трубки. Все это наводит на мысль, что ситуация для него, его коллег и для ребенка была бы совершенно иной, если бы наш персонаж повел себя по-другому, обнаружив свой первый случай hamartia.
Чтобы завершить преобразование описанной истории и проиллюстрировать функцию и роль трагического катарсиса, вернемся к моменту, когда наш персонаж решил пригласить родителей Сирана, чтобы объяснить им ситуацию. Как он должен себя вести и что должен говорить своим коллегам и родителям, чтобы конструируемая история соответствовала критериям трагической истории болезни? Я предложу здесь способ презентации плохих новостей, который, как я считаю, соответствует требованиям Аристотеля. Наш персонаж должен начать с сообщения печальных известий об ухудшении состояния Сирана и о неблагоприятном прогнозе для него. Затем он должен передать им содержание обсуждения с коллегами возможности прекращения интенсивной терапии и отключения аппарата искусственной вентиляции. Тем не менее наиболее важно для него не стараться смягчить свою собственную боль, используя какие-либо рациональные ухищрения (замалчивая что-то или притворяясь, будто он полностью контролирует ситуацию) или пытаясь выставить себя невинной жертвой несчастливых обстоятельств (утери терапевтического справочника в связи с эмоциональным дистрессом и пережитым потрясением). Напротив, он должен продемонстрировать моральную стойкость, будучи готовым принести извинения коллегам за свое поведение. И наконец, он должен прямо сообщить родителям о своем потрясении и о чувстве горя, поясняя, что ухудшение состояния их ребенка, вероятно, вызвано цепочкой ошибочных действий, которые совершил именно он:
Я знаю, что ничего не могу сделать для улучшения состояния Сирана, и мне нечем вас утешить. Я был охвачен чувствами жалости и печали, потеряв другого ребенка. Я утратил бдительность и не смог должным образом следить за состоянием Сирана. Из-за смущения и гордости я постарался скрыть свою рассеянность от коллег. В результате моего молчания возникла оплошность, которая, как я считаю, и стала причиной ухудшения состояния Сирана. Я очень сожалею. Я чрезвычайно сожалею.
Для коллег нашего действующего лица, родителей маленького Сирана и особенно для него самого, вероятно, имеет большое значение тот факт, что лечащий врач наконец демонстрирует эмоциональную и моральную стойкость, чтобы открыто признать совершенные им ошибки. Это дает возможность всем заинтересованным сторонам осознать истинные обстоятельства произошедшего и реагировать на него не просто с позиции сочувствующего врача или горюющих родителей, а с позиции жертв, вовлеченных в трагическую историю болезни. Становится также очевидным, что, хотя можно уклониться от признания hamartia в медицинской практике, виновное действующее лицо проявит моральную стойкость, если постарается исцелить свои эмоциональные и моральные раны, признав свои ошибки. Таким образом, как это было продемонстрировано, трагическая история болезни может вызвать определенный катартический эффект. Kitto описывает этот эффект следующим образом: «Катарсис, к которому мы стремимся, — это наивысшее просветление, которое превратит болезненное событие в глубокое и трогательное переживание» (Kitto, 1939/1995, p. 142).
Многие из присутствующих на собрании были заметно растроганы искренним раскаянием ведущего консультанта. В конце собрания родители Сирана подошли к нему, обняли, и все они вместе плакали. Два дня спустя после этой встречи родители сказали представителю больничной администрации: «Мы знаем, что он ничего не может изменить в том, что сделал с Сираном. Все мы согласны с тем, что он совершил несколько ошибок. И тем не менее, мы прощаем его».
Год спустя суд постановил, что консультант виновен в ухудшении состояния, которое повлекло за собой преждевременную смерть Сирана, и лишил его права на лечебную практику сроком на шесть месяцев.
Заключительные замечания
Предметом исследования этой статьи является Аристотелева поэтическая концепция катарсиса. Ее задача — показать, что «трагический катарсис» можно использовать для прояснения некоторых дидактических проблем, возникающих в процессе обучения студентов медицинских специальностей моральному совладанию со сложными или с трагическими ситуациями в принятии профессиональных решений. Другая задача — показать, что Аристотелевы критерии разграничения понятий «история» и «трагедия» помогают переосмыслить реальные истории болезни как истории трагические. Более того, предпринята попытка использовать дидактический потенциал такого переформулирования. Кроме предоставления необходимого для этого материала, в процессе анализа проясняется, почему трагические истории болезни должны считаться наилучшими пособиями и источниками знания медицинской этики. Наконец, подкреплена высказанная в предыдущей статье идея о том, что толкование Аристотелева понятия трагического катарсиса способствует развитию терапевтической концепции медицинской этики.
Выражение признательности
При подготовке этой статьи были очень полезны советы и предложения Ronald Polansky, Anastasia Maravela-Solbakk, Petter Andreas Steen, Ola Didrik Saugstad и коллег отдела медицинской этики университета Осло.
1. Bernays J. Grundzüge der verlorenen Abhandlung des Aristoteles über Wirkung der Tragödie. — Breslau: E. Trewendt, 1857.
2. Bernays J. Aristotle on the Effect of Tragedy / in: J. Barnes. M. Schoefield, R. Sorabji (eds.) Articles on Aristotle. — London: Duckworth.— Vol. 4. — 1979. — Р. 154-165.
3. Easterling P.E., Kenney E.J. The Cambridge History of Classical Literature. — Cambridge: Cambridge University Press. — Vol I. Greek Literature. — 1985.
4. Else G.F. Aristotle''s Poetics: The Argument. — Cambridge. Mass: Harvard University Press, 1957.
5. Flashar H. Die Medizinischen Grundlagen der Lehre von der Wirkung der Dichtung in der Griechischen Poetikk // Hermes. — 1956. — 84. — 12-48.
6. Golden L. Catharsis // TAP. — 1962. — A 93. — 51-60.
7. Golden L., Hardison O.B. Aristotle''s Poetics: A Translation and Commentary for Students of Literature. — New York: Englewood Cliffs, 1968.
8. Golden L. Mimesis and Katharsis // Classical Philology. — 1969. — 64. — 145-153.
9. Golden L. Catharsis as Clarification: An Objection Answered // Classical Quarterly. — 1973. — 23. — 45-46.
10. Golden L. The Purgation Theory of Catharsis // Journal of Aesthetics and Art Criticism. — 1973. — 31. — 473-479.
11. Golden L. Towards a Definition of Tragedy // Classical Journal. — 1976. — 72. — 21-33.
12. Golden L. Epic, Tragedy, and Catharsis // Classical Philology. — 1976. — 71. — 75-85.
13. Goldstein H.D. Mimesis and Catharsis Reexamined // Journal of Aesthetics and Art Criticism. — 1966. — 25. — 567-577.
14. Gudeman A. Aristotle: Aristoteles Peri poiçtikçs. Mit Einleitung, Text und exeg. Komm. von Alfred Gudeman. — Berlin-Leipzig: Walter de Gruyter, 1934.
15. Halliwell S. Aristotle''s Poetics. With a New Introduction. — London: Duckworth, (1986) 2000.
16. Hardy J. Aristotle. Poétique. — Paris: Édition Budé, 1932.
17. House H. Aristotle''s Poetics: A Course of Eight Lectures. — London: Rupert Hart-Davis, 1956.
18. Janko R. Aristotle. Poetics I with Tractatus Coislinianus. A Hypothetical Reconstruction of Poetics II. The Fragments of the On Poets. — Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 1987.
19. Keesey D. On Some Recent Interpretations of Catharsis // The Classical World. — 1979. — 72. — 193-205.
20. Kitto H.D.F. Greek Tragedy. — London; New York: Routledge, 1939, 1995.
21. Lear J. Katharsis // in: A.O. Rorty. (ed.) Essays on Aristotle''s Poetics. — Princeton: Princeton University Press, 1992. — Р. 315-340.
22. Laín Entralgo P. The Therapy of The Word in Classical Antiquity. — New Haven; London: Yale University Press, 1970.
23. Lessing G.E. Hamburgische Dramaturgie // in: Werke in fünf BändenVierter Band. Ausgewählt von Karl Balser / ed. by G.E. Lessing. — Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, (1767-8), 1978.
24. Nicev A. La catharsis tragique d''Aristote: Nouvelles contributions. — Sofia: Editions de l''Université de Sofia, 1982.
25. Nussbaum M.C. The Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. — Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
26. Nussbaum M.C. Tragedy and Self-sufficiency // in: A.O. Rorty. (ed.) Essays on Aristotle''s Poetics. — Princeton: Princeton University Press, 1992. — Р. 261-290.
27. Post L.A. From Homer to Menander: Forces in Greek Poetic Fiction. — Berkeley: University of California Press, 1951.
28. Solbakk J.H. Moral Dialogue and Therapeutic Doubt // Journal of Medicine and Philosophy. — 2004. — 29(1). — 93-118.
29. Solbakk J.H. The Tragic Nature of Biomedical Ethics // in: M. Häyry, T. Takala, S. Holm (eds.). Life of Value. John Harris, His Arguments, and His Critics. — Amsterdam; New York: Rodopi Publishers (Forthcoming), 2005.
30. Østerud S. Hamartia in Aristotle and Greek Tragedy // Symbolae Osloenses LI. — 1976 — 65-80.