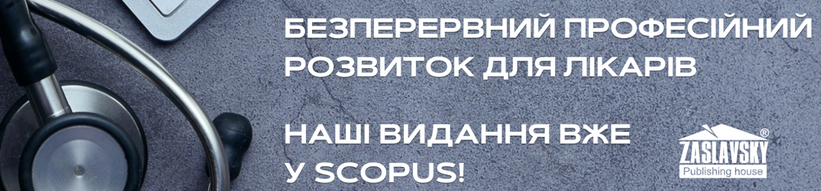Газета «Новости медицины и фармации» Психиатрия (383) 2011 (тематический номер)
Вернуться к номеру
Психиатрия в состоянии самозабвения
Авторы: А.О. Фильц, кафедра психиатрии и психотерапии факультета последипломного образования Львовского национального государственного университета им. Данила Галицкого
Версия для печати
Очевидный сдвиг современных представлений о природе и сущности психических расстройств в сторону нейронаук, т.е. нейрологии в широком смысле этого слова, имеет одно, далеко не очевидное следствие. Его можно сформулировать так: состояние, к которому психиатрия подошла в начале XXI века, с полным правом следовало бы обозначить как «забвение собственных больших проектов». И прежде всего это справедливо по отношению к наиболее чувствительной и ранимой области психиатрических знаний — области теоретического понимания феноменов душевного расстройства. Не то чтобы феноменология, т.е. философские и методологические основания психиатрии, сегодня малоактуальна и неинтересна. И даже не потому, что фундаментальные и систематические описания принципов общей психопатологии К. Ясперса и его последователей и оппонентов (фон Гебзаттеля, Минковского, Телленбаха, Шнайдера и Глятцеля) современные психиатры рассматривают скорее как надлежащую, но утомительную дань традиции. Самозабвение психиатрии, следует полагать, связано с тем, что сегодня трудно либо даже невозможно назвать хотя бы один четко и внятно сформулированный теоретический подход, на который психиатры могли бы опереться в своих размышлениях по поводу сущности и правды душевных расстройств. Сошли со сцены и большой, и малой психиатрии ее грандиозные «оперы» вместе с их творцами и оригинальными исполнителями. На смену им, как и в других сферах современной культуры, пришли маловыразительные «сериалы», востребованные жестким диктатом научного прагматизма и моды. Внутренние же, имманентные (т.е связанные с субъективным опытом) проблемы психиатрии как самостоятельного раздела научного познания ни в репертуар, ни в идеологию сериалов не вписываются. Такой взгляд не будет казаться преувеличением, если принять во внимание откровенно компромиссный и утилитарный характер современных психиатрических концепций. В своем стремлении приспособиться к требованиям биологически ориентированного медико-технологического прогресса (и бизнеса!) концепции в психиатрии чередуются так быстро, что психиатры — не только практики, но и ученые — не в состоянии (и даже не хотят) интегрировать все предлагаемые инновации.
Простой пример. Известно, что периодическая ревизия психиатрических систематик — МКБ и DSM предпринимается в среднем в течение 12–15 лет, в отрезок времени менее одного биологического поколения (прим. 25 лет). Известно также, что каждая подобная ревизия подразумевает переход мирового collegium psychiatricum на новые позиции, во многом отличающиеся от предыдущих. Однако каждый психиатр хорошо чувствует и понимает: существенно менять каждые 10–15 лет свое выстраданное длительным опытом понимание психических расстройств и приспосабливаться к быстротечным переменам в классификации, а следовательно, и к новой трактовке всего многообразия клинических картин — не так уж легко и просто.
Кроме того, привыкать к новым веяниям в терминологии и классификации и интериализировать их (усваивать в качестве внутренней потребности) не имеет особого смысла. Ведь по истечении 12–15 лет, а может, и еще быстрее, приходится вновь адаптировать себя к последующим переменам.
Не менее сложной выглядит ситуация со стандартами и протоколами оказания психиатрической помощи. Требования к установлению диагноза согласно «стандартным» критериям принуждают молодых психиатров и тех, кто их обучает, унифицировать клинические описания больных в согласии с узкими критериальными рамками. Отступление же от таковых чревато для лечащего врача в лучшем случае порицанием за неумение современно работать, а в худшем… Очевидно, что такой жестко критериальный подход к видению психопатологических феноменов не только сужает психопатологический кругозор психиатра. Он освобождает его от весьма обременительной необходимости утруждать себя исследованием нестандартных проявлений, не вписывающихся в установленные критерии, а потому и не распознаваемых за их непроницаемым фасадом.
Иными словами, стандарты, улучшая взаимопонимание психиатров в оценке общего типичного (номотетического), снижают до минимума клиническую дискуссию об особенном и уникальном (идиографическом). Если позволить себе метафору, то можно задаться таким вопросом: что лучше для развития гастрономии — фастфуд или эксклюзивные рестораны с поисками новых рецептов. Или даже так: может, следует поддерживать и развивать массовое производство копий и репродукций, а новые произведения искусства создавать как можно меньше? Ответ, к сожалению, неоднозначен.
Словом, создается впечатление, что психиатрия хотела бы сбросить в Лету все свои противоречия и клинические искания, приглушить голос собственной истории, лишь бы не казаться устаревшей или малонаучной и включиться во всеобщий порыв постмодерной деконструкции, где все новое — не более чем очевидное, но забытое старое.
Еще один пример иллюстрирует не только сказанное, но и скрывающиеся за ним проблемы более общего характера.
Приходится свыкаться с тем, что из лексикона современных психиатрических классификаций в последние десятилетия постепенно вытесняются и уходят в прошлое такие традиционные и вразумительные понятия, как истерия, психопатия и паранойя; все реже встречаются ипохондрия, парафрения и меланхолия. Четыре из названных — истерия, паранойя, ипохондрия и меланхолия — имеют под собой традицию более двух тысяч лет; еще два — психопатия и парафрения — являются ровесниками клинической психиатрии.
В пользу постепенного изъятия этих понятий из психиатрического обихода и замены их на новые выдвигались два аргумента:
а) устаревшее понимание природы соответствующего расстройства, как это имело место при вытеснении из современных классификаций понятий истерии, паранойи, ипохондрии и меланхолии;
б) стигматизирующее и социально «несимпатичное» звучание таких терминов, как «психопатия» и та же «истерия».
Не входя в перипетии всевозможных терминологических дискуссий, можно увидеть, что именно современная психиатрия приобрела взамен новые понятия, социальная коннотация, классификационная четкость и смысловое наполнение которых могут лишь с большими предостережениями рассматриваться как прогрессивные и к тому же удобные в понимании.
Предваряя рассмотрение сомнительных преимуществ новых терминологических обозначений, призванных заменять «старые и добрые», позволим себе привести одну цитату на тему замены традиционных понятий: «Изобретать новые слова — значит притязать на законодательство в языке, что редко увенчивается успехом. Прежде чем прибегнуть к этому крайнему средству, полезно обратиться к мертвым языкам и к языку науки, дабы поискать, нет ли в них такого понятия вместе с соответствующим ему термином; и если бы даже старое употребление термина сделалось сомнительным из-за неосмотрительности его творцов, все же лучше закрепить главный его смысл (хотя бы и оставалось неизвестным, употреблялся ли термин первоначально точь-в-точь в таком значении), чем испортить дело тем, что останешься непонятным.
Поэтому если для определенного понятия имеется только одно слово в уже установившемся значении, точно соответствующее этому понятию, отличение которого от других, близких ему понятий имеет большое значение, то не следует быть расточительным и для разнообразия применять его синонимически взамен других слов, а следует старательно сохранять за ним его собственное значение; иначе легко может случиться, что термин перестанет привлекать к себе внимание, затеряется в куче других терминов с совершенно иными значениями и утратится сама мысль, сохранить которую мог бы только этот термин». Цитата принадлежит Иммануилу Канту. Позволить себе и другим изъятие какого-либо важного термина (в данной работе Кант говорит об идеях у Платона) и соответствующего этому термину понятийного наполнения значило для Канта подвергнуть сомнению существующие и давно установленные взаимосвязи целостной системы. Забвение же каждого сформированного традиционного понятия с необходимостью принуждает к переосмыслению всех остальных понятий — раньше или позже. То, что Кант говорит здесь прежде всего о системе спекулятивного (т.е. не подтверждаемого непосредственным эмпирическим опытом) познания, не противоречит нашему примеру. Ведь во многом значение терминологических нововведений в современную психиатрическую систематику (и психопатологию) не имеет более строгого и глубокого эмпирического обоснования, нежели прежние, а следовательно, эти нововведения являются такими же спекулятивными, как и «добрые старые» понятия.
Возвращаясь к вопросу забвения традиционных терминов в психиатрии, воспользуемся иллюстрацией наиболее яркого в историческом плане вечного понятия «истерия». (Впрочем, высказанные ниже соображения могут вполне справедливо касаться и всех остальных традиционных понятий.)
Итак, сегодня истерия разложена: а) в самостоятельный гистрионный тип расстройства, соотносимый главным образом с личностной структурой; б) в конверсионное расстройство, классифицированное вообще вне рамок невроза истерии, как часть собирательной группы соматоформных расстройств (СФР); в) в диссоциативное расстройство, относимое de facto непонятно к чему (хотя и подразумеваемое как истерия?!). И почему же так? Во-первых, потому что понятие «истерия», принадлежащее Гиппократу (т.е. по мнению Канта, да и согласно канону медицины — удовлетворяющее условию образования терминов), в последние 20 лет оказалось неадекватным и «плохим». Неадекватным, поскольку в основу этого понятия было положено представление о блуждающей матке (истэра), которая своими непроизвольными перемещениями по телу нарушает функции органов и тем самым провоцирует возникновение различных непонятных симптомов. То же самое можно сказать и об ипохондрии — подреберном тревожном страдании, либо о меланхолии — болезни черной желчи. Во-вторых, неблаговидность истерии состоит в том, что на протяжении XX века это слово приобрело унизительную и откровенно негативную коннотацию. «Плохость» истерии и в том, что этот термин дискриминировал женщин и длительное время (вплоть до З. Фрейда) считался сугубо фемининным расстройством, отождествляемым с примитивностью, незрелыми отношениями, фальшивостью (если не лживостью) и притязательной капризностью. И наконец, последним оправдательным аргументом в пользу забвения термина истерии была иллюзия, что простая его замена на новые термины и его распыление в различные диагностические рубрики смогут минимизировать весь спектр его негативных значений.
Справедливость дискуссии, однако, требует шаг за шагом рассмотреть существенные и возможные контраргументы, согласуя их с высказанными выше социальными коннотациями, классификационной ценностью и смысловым наполнением при замене термина «истерия» на новые.
Первое: социальная коннотация. Термин «гистрион», близкий по своему звучанию к «истерия», был предложен с целью избежания «плохости» последней и, следовательно, предназначен для нового (если не положительного, то хотя бы нейтрального) обозначения истерической психопатии. «Гистрион» переводится с древнегреческого как «шут» или «паяц» на ходулях, забавляющий публику на городских площадях, и характеризирует истерию как личностное расстройство. Полагая за цель отразить всю гамму трагикомичности ее фальшивой жизни под маской, термин «гистрионность», однако, выглядит не менее унизительным и обесценивающим, нежели обычное понятие истерии. Ведь если термин «истерия» предполагает страдание, пускай даже и преувеличиваемое, то «гистрионность» подразумевает только лишь внешние атрибуты уязвленной и неполноценной внутренней жизни. К тому же слово «истерия» соотносимо с медицинскими, а не социальными представлениями. В итоге термин «гистрионное расстройство», отражающий социально неприглядную роль его носителя, может со временем оказаться не настолько выигрышным и даже более стигматизирующим, чем бы этого хотелось, а этого так бы хотелось избежать.
Второе: классификационная ценность. Сегодня можно уже говорить о том, что отнесение конверсионного невроза к более широкой группе соматоформных (т.е. телесно подобных) расстройств не вполне оправдывает свои ожидания. По сути, понятие СФР, являясь собирательным и определяя собой любые телесные нарушения невротического страдания, превратилось в типичный «большой горшок» психиатрии. (Мы, правда, понимаем, что история психиатрии без таковых не может: меланхолия в XI–XVIII вв., паранойя в XIX в., borderline-синдром в середине XX в.) Необходимость подобных собирательных рубрик обусловлена главным образом прагматическими требованиями своего времени. В данном случае речь идет о попытке каталогизировать разнородные симптомы и симптомокомплексы для обозначения всякого телесного эквивалента непсихотического душевного заболевания. Но при этом специальной интегрирующей концепции под понятием СФР нет, а в самом понятии эклектично (мы, оправдывая ситуацию, говорим — эмпирически?!) объединяются клинические, психодинамические, нейробиологические и даже неврологические взгляды. Ведущим мотивом при создании понятия СФР были откровенно декларируемые в системе DSM требования простоты и комфортности (или попросту — незамысловатости) в диагностике и клинической практике. Однако если ранее и психиатры, и не психиатры хорошо понимали друг друга, говоря об истерии, то сегодня ситуация усложнилась. Теперь взаимное понимание между психиатрией и общей медициной и даже между психиатрами большой и пограничной «юрисдикции» того, что есть на самом деле соматоформное расстройство, оказалось проблемой. А если, скажем, попытаться объяснить врачам общей практики, как мы сами, психиатры, понимаем различия между конверсиями (по-старому — истерическим неврозом) и соматизацией (по-старому — полисимптоматической истерией?! или синдромом Брике), то на деле это вырастает в непреодолимую проблему. Как следствие, ожидаемая и желанная простота и прагматичность понятия СФР оборачиваются чрезмерной замысловатостью и запутанностью, усложняющей «искомое» преимущество для клинической практики. Если также принять во внимание что при создании понятия СФР необходимо было деконцептуализировать традиционные взгляды не только на истерию, но и на названные уже ипохондрические и дисморфические расстройства, то смысл такой модернизации ускользает и вовсе. Ведь, по сути, ипохондрия и дисморфия являются не формальными и структурными синдромами (т.е. синдромами, обладающими соответственной симптоматической структурой), а лишь специфическим содержанием переживаний соответственно телесной и чувственной идентичности [2]. Действительно, никто не возьмется оспаривать, что ипохондрия и дисморфия могут быть и фобической, и истерической, и обсессивной, и сверхценной, и депрессивной, и, наконец, обрядовой; и в каждом из названных вариантов ипохондрия и дисморфия будут лишь содержательным наполнением соответствующего расстройства.
Итак, можно позволить себе сказать: от смешения в группе СФР разнородных расстройств и разных по своей психопатологической значимости синдромов — формальных и содержательных — классификация и традиция пограничной психиатрии упростилась настолько, что проиграла.
Третье: смысловое наполнение. Исходя из истории науки, «примитивность» первичных, еще античных представлений о каком-либо душевном расстройстве, будь то блуждание матки либо преобладание черной желчи, либо же подреберной тоски, не может быть достаточным основанием для отказа от этих понятий. Действительно: в таком случае нам пришлось бы требовать от физики отказаться от примитивного и неадекватного сегодня античного термина «атом», биологу — от понятия «клетка», а химику — от понятия «молекула». Ведь неделимость атома (греч. атомос — неделимый) указывает на полное несоответствие слова и его нынешнего смыслового наполнения. Также и понятие клетки не только не соотносимо сегодня с наименьшей составляющей живого, но и не имеет никакого отношения к своему первичному значению (от лат. celulla — главное пространство храма). Химикам, в свою очередь, необходимо было бы пересмотреть термин «молекула», ибо его изначальное значение есть не что иное, как «масса». Однако ни одна из названных фундаментальных, без сомнения, строгих и доказательно-экспериментальных наук от устаревших и традиционных понятий не отказывается. Наоборот, эти понятия остаются в самом основании современных теорий, хотя все понимают, что их нынешнее наполнение уже давно не соответствует или даже отрицает их первичное значение.
Четвертое, итоговое: создается впечатление, что введение в современные психиатрические систематики новых терминов требовало бы более скрупулезного и внимательного отношения. Психиатры и психодинамически ориентированные психотерапевты продолжают пользоваться традиционными терминами, во всяком случае, наиболее укоренившимися из них. Традиционные термины понятны и в историческом, и в текущем дискурсе; и они достаточно хорошо позволяют спорить не об их словесном содержании, а о сущностном наполнении. Ибо что в действительности может значить и для психиатра, и для пациента такой диагноз, который хотя и полностью соответствует критериям МКБ или DSM, однако фиксирует наличие и соматоформного, и обсессивно-компульсивного, и депрессивного расстройств одновременно?!
Высказанные замечания, впрочем, не являются ничем новым. Тем более в психиатрии. Возможно, специфичность ее частично в том и состоит, что большинство понятий предыдущих столетий, будучи общепризнанными и распространенными, сегодня встречаются только в исторических «раскопках».
Но тем не менее между преданными забвению и все еще упоминаемыми и традиционными понятиями истерии, ипохондрии, паранойи и меланхолии имеется одно весьма важное (словами Канта — регулятивное) различие. Если традиционные, классические понятия, устояв под давлением дискуссий на протяжении многих столетий, пережили не одну революцию в психиатрии и сохранили свое клиническое, диагностическое и познавательное значение, то понятия, сошедшие со сцены, были заменены именно потому, что не выдержали требований со стороны новых психиатрических мировоззрений, идущих на смену устаревшим. Отмеченное различие само по себе очевидно. Однако оно свидетельствует еще и о том, что попытки избавиться от наиболее устоявшихся понятий, не подвластных никаким переменам в психиатрии, есть один из важных моментов, сигнализирующих об особом состоянии современного психиатрического познания.
Этому состоянию, как уже говорилось, свойственно безразличие к новым обобщающим большим проектам, вследствие чего нынешние классификации скорее преобразовались в эклектичную и прагматичную синдромологию (чего так стремился избегать основатель нозологии Э. Крепелин). Однако для понимания современного положения дел этого недостаточно. Можно было бы полагать (и такая точка зрения в разных вариантах уже высказывается), что психопатология и клиническая психиатрия последних два десятилетия находятся в состоянии своеобразной «кубистической трансформации». Когда целостная картина обозначена только наводящими контурами, состоящими из разрозненных элементов, не объединяемых единой концепцией. Или своеобразной химической лабораторией, в которой каждый элемент, в зависимости от воли алхимика, можно превратить в иной, где сосуществует множество реальных и вымышленных элементов, для которых желательно сконструировать легкий упорядоченный каталог, но где нет еще обоснований и естественной упорядоченной системы.
Есть основания полагать, что последовательный критический анализ любой иной противоречивой проблемы современной психиатрии мог бы привести нас к подобному результату.
И все же такой взгляд на «состояние дел» не исключает оптимистичного и положительного видения. Разрешим себе еще одну историческую параллель: в конце XIX века члены Лондонского королевского научного общества заявили, что познавательные возможности физики себя исчерпали, что ожидать новых фундаментальных открытий в этой науке не следует и все, что нам остается — это наводить порядок в уже разгаданном и хорошо изученном мире. Что произошло с физикой в течение последующего десятилетия, когда классическая механическая концепция мира была подвержена более чем основательной релятивисткой ревизии, и насколько неосмотрительным оказался вердикт лучших ученых Объединенного Королевства в конце XIX века, — с нынешней перспективы видится как один из наиболее ярких недоразумений на пути научного познания.
Перенесение этого курьеза на современную психиатрию могло бы поддержать нас во мнении, что ее «теоретические достижения» подходят к рубежу длительного «алхимического» этапа в познании феноменов душевного расстройства. Для дальнейшего развития психиатрия, по-видимому, нуждается в радикально иных подходах к пониманию и объяснению психических расстройств. Подходы эти до сих пор, однако, найти не удается.
«Можно было бы привести еще множество подобных размышлений и доводов на различных уровнях, — пишет M. Spitzer [1], один из немногих современных эпистемологов психиатрии, — но все более очевидным кажется нам: что-то не так в нынешнем состоянии психиатрии, и это «не так» не есть пустяковой или мелочной деталью, которую можно устранить, прибегая к изменениям то в одном, то в ином месте» [3].
Попытаемся еще раз обобщить сказанное.
1. Психиатрия и ее познавательные основания — общая психопатология и психоанализ — в течение второй половины XX века не создали никаких новых «великих проектов», о чем свидетельствуют:
2. Тенденции упрощения и деконструкции традиционных концепций, ставшие барьером на пути создания принципиально новых воззрений. Об этом, в свою очередь, свидетельствуют:
3. Современные классификации психических расстройств, которые все более и более отмежевываются от единого концептуального (естественного — в понимании Э. Крепелина или естественно-научного — в понимании К. Ясперса) принципа построения. Доминирует в этих классификациях отчетливо синдромологический, каталоговый принцип. Это опять же свидетельствует:
4. Об отсутствии в современной психиатрии новой обобщающей концепции, способной взять на себя ответственность по интеграции накопленного клинического опыта. Поскольку, однако, даже каталоговый характер классификаций должен иметь все же некий общий принцип упорядочения, приходится соглашаться с тем, что таким принципом остается нозология, поскольку других подобных принципов нет. Это, наконец, свидетельствует о том:
5. Что «великий проект» К. Ясперса по объединению естественно-научного (номотетического) и индивидуально-психопатологического (идиографического) подходов в психиатрии состоялся лишь частично. При этом идиографический подход реализован главным образом в психоаналитической психопатологии и далее — в психотерапии как самостоятельной науке.
В итоге хотелось бы еще раз сформулировать два тезиса.
Первый: если вернуть из забвения большие проекты психиатрии, то едва ли не наиболее важным из них будет проект по созданию «правильной» и непротиворечивой концепции. Критериями правильности может рассматриваться постулированная Э. Крепелином и К. Ясперсом «естественная» систематика психопатологических феноменов et vice versa.
Второй: естественность систематики в психиатрии полагает наличие объединяющего принципа, исходя из которого можно было бы сформулировать своеобразную психопатологическую периодическую систему симптомов и синдромов, отражающую как иерархические соотношения между ними, так и закономерную связь в глубинно-психологических процессах их взаимной трансформации.
1. Кант И. Критика чистого разума. — М.: Мысль, 1964. — С. 439.
2. Смулевич А.Б., Дубницкая Э.Б., Фильц А.О., Морковкина И.В. Соматоформные расстройства (современные методологические подходы к построению модели // Ипохондрия и соматоформные расстройства / Под ред. А.Б. Смулевича. — М., 1992. — С. 8-17.
3. Philosophy and Psychopathology / Eds. M. Spitzer, B. Maher. — Springer, New York; Heidelberg; London; Paris; Tokyo; Hong Kong, 1990. — 5S.