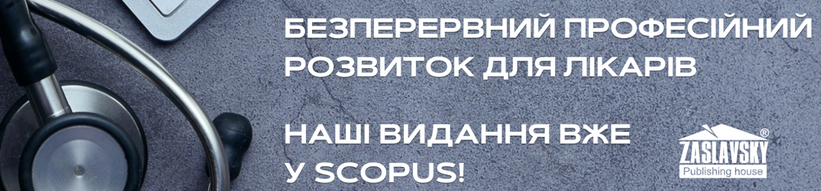Газета «Новости медицины и фармации» №4 (751), 2021
Вернуться к номеру
Размышления о национализме
Авторы: Ион Деген, д.м.н.
Разделы: От первого лица
Версия для печати
Продолжаем публиковать рассказы Иона Лазаревича Дегена
из золотого редакционного запаса
— Многоуважаемый коллега, для меня чрезвычайное удовольствие — преподнести именно вам этот небольшой подарок, — на отличном украинском языке произнес патологоанатом экспериментального отдела Киевского ортопедического института, положив передо мной две почтовые марки.
В этом отделе мне, практическому врачу, высочайше разрешили проводить экспериментальное исследование. Разрешили… Вы знаете, что значит разрешение для еврея, да к тому же еще нелюбимого начальством этого заведения? Директору института позвонил мой пациент, заместитель министра здравоохранения Украины, и приказал предоставить мне место для эксперимента. Указания оказалось недостаточно. Жители окружающего институт микрорайона постоянно и отнюдь не без оснований жаловались властям на отравляющий существование населения неумолкающий лай собак в виварии, требовали убрать этот проклятый виварий за пределы города.
Кому-то в институте пришла в голову гениальная мысль обезголосить собак. Для этого во время операции следовало перерезать две веточки нерва, идущие к голосовым связкам собаки. Операция несложная. Надо только, как при каждой операции, знать анатомию. Почему бы не заставить именно этого мерзкого еврея таким образом оплатить разрешение экспериментировать на неприкосновенной территории? Свободного времени у меня почти не бывало. Даже часы сна сокращались до минимума. Но какое это имело значение? Раз в неделю в течение примерно двух часов я успевал обезголосить девять собак, умиротворяя население района. Именно здесь, в экспериментальном отделе, я сталкивался с патологоанатомом.
Русский язык у него — мне однажды пришлось услышать — был безупречен. В чем не было ничего странного: доктор закончил в Ленинграде Военно-морскую медицинскую академию. Но говорил он исключительно по-украински, вызывающе демонстрируя таким образом свой национализм. Краем уха я слышал, что это провокация, что он — капитан КГБ, что он вообще не украинец, а поляк, и еще разное. Не знаю. На меня он производил впечатление интеллигентного человека и, безусловно, знающего специалиста. Кстати, несколько лет спустя он подарил мне свою блестяще иллюстрированную им книгу «Украинские писанки».
— Вы знаете, кто это? — видя мое недоумение, спросил он, показывая на марки.
— Нет.
— Это Герцль. Вам, надеюсь, знакомо это имя?
— Конечно. Теодор Герцль. Венский журналист. Но его изображение я вижу впервые.
— Не просто венский журналист, дорогой коллега, а родоначальник политического сионизма, мечтавший о еврейском государстве точно так, как я — о своем. Именно вы, человек, который не боится в наше непростое время гордиться своим еврейством, должны обладать этими марками, — произнес он на красивом литературном украинском языке.
Я поблагодарил. Возможно, несколько сдержаннее, чем следовало. Грешен. Повлияли, вероятно, слухи о капитане КГБ. Время действительно было непростое.
Я попытался понять, почему он решил, что я горжусь своим еврейством. Может быть, сыграла роль незначительная сценка перед началом заседания ортопедического общества?
Заседания эти проводились раз в две недели. Заблаговременно прибывала почтовая открытка с наклеенной на нее папиросной бумагой, на которой была напечатана повестка заседания — названия докладов и сообщений. На сей раз открытка изумила меня. «Уважаемый Иван Лазерович» — было напечатано вместо «Ион Лазаревич».
За пять минут до начала заседания, когда зал уже заполнился до основания, я подошел к столу на возвышении и обратился к сидевшему за ним ученому секретарю общества, профессору, которому на заре моей врачебной деятельности соорудил кандидатскую диссертацию. Я тогда честно предупредил его, что на таком скудном и неоднородном материале нельзя сделать даже порядочную статью, не то что диссертацию, а о защите такой диссертации нельзя и мечтать. С непонятной мне уверенностью будущий профессор ответил, что защита — не моя забота, что мое дело — написать. За дальнейшее мне не следует беспокоиться. Действительно, вскоре он стал кандидатом медицинских наук, а еще через некоторое время — старшим научным сотрудником. Для меня, молодого врача, это было неразрешимой загадкой.
Хоть я не без оснований считал себя неучем, мои знания медицины, в частности ортопедии и травматологии, превосходили знания этого так называемого ученого в несколько раз. Кто написал ему докторскую диссертацию? Каким образом он стал профессором? Не знаю, да и зачем мне это знать. Но человеком он был добрым и, как мне кажется, порядочным. Во всяком случае, ко мне он относился даже больше чем с уважением. Так вот, этому профессору я показал открытку и, стараясь быть услышанным аудиторией, сказал:
— Посмотри, что здесь написано. Обрати внимание — «Лазеровичу». Медицина действительно прогрессирует семимильными шагами. Но с помощью лазера пока не зачали ни одного ребенка. Пользуются старым очень приятным способом. К тому же имя Лазарь известно не только медикам. Ведь даже лазарет, заведение сугубо медицинское, происходит от имени Лазарь.
— Брось, Ион. Ну, опечатка.
— Вот видишь, ты знаешь, что я — Ион. А тут значится Иван.
Из второго ряда прозвучал голос старшего научного сотрудника института, вроде бы приличного украинского парня:
— А чем вам не нравится имя Иван?
Я повернулся к нему:
— Что ты, Павлик? Отличное имя. Производное от древнееврейского имени Иоханан. Но ты представляешь себе, Павлик, где бы ты был, будь я Иваном? Каково бы тебе пришлось в сравнении с таким Иваном?
Реакция зала — от злобно нахмуренных лиц до одобрительного смеха. Мой добрый приятель, младший научный сотрудник Вася Кривенко, с улыбкой прокомментировал из пятого ряда:
— Израильский агрессор!
Может быть, эту сценку имел в виду патологоанатом, предположив, что я горжусь еврейством?
Недели две или три спустя он снова заговорил о Герцле, о государстве Израиля (именно так он произнес — «государство Израиля») и причислил меня к сионистам. Я никак не отреагировал на это. Возможно, помня о его предполагаемой связи с КГБ. А может быть, потому, что о сионизме у меня было весьма смутное представление. Во всяком случае, сионистом я себя не считал. Вот мой друг Борис Коренблюм, математик, профессор Киевского политехнического института, на просьбу подписать коллективное письмо, улыбаясь, ответил: «Простите, я не могу подписать этот протест. Я не диссидент, я сионист». Мне бы и в голову не пришло сказать что-нибудь подобное.
При каждой оказии патологоанатом не упускал возможности заговорить о сионизме и независимой Украине. Я отмалчивался, боясь, что это провокация. Однажды он упомянул Богдана Хмельницкого, Гонту, погромы в те недобрые времена. Упомянул как-то размыто вину украинского народа перед евреями. Я молчал. К убитым Богданом Хмельницким и Гонтой я мог бы добавить евреев, уничтоженных украинцами в погромах после Первой мировой войны, их чудовищные преступления во время Второй мировой войны, своим садизмом поражавшие зверствовавших немцев.
Молчал я даже о славной украинской семье, которая, рискуя жизнью, спасла меня после первого ранения. Умолчал и о неизвестных мне украинцах, которые, перегружая с подводы на подводу, вывезли меня из окружения и доставили в госпиталь в Полтаве. Умолчал, по-видимому, из подлости, чтобы не угодить патологоанатому во время беседы, не доставлявшей мне удовольствия. Он уверял меня в том, что настоящие, интеллигентные украинцы ощущают унаследованную вину точно так, как он, и когда подобные ему люди придут к власти в независимом самостоятельном украинском государстве, вольная Украина попросит прощения у евреев за все причиненное зло.
— Поверьте мне, глубокое уважение к вам — еврею — питаю не только я, но многие десятки украинцев, о которых, я уверен, вы и не подозреваете.
Вскоре мне представилась возможность убедиться в справедливости его слов.
Вечер тридцать первого декабря. В половине десятого, когда мы уже собирались уходить к друзьям на встречу Нового года, раздался звонок в дверь. Жена посмотрела в глазок и растерянно указала на него пальцем. Перед дверью на большой площадке тесно столпились ряженые. Я открыл — в квартиру ввалилось, наверное, больше сорока человек. Сразу же, не сказав ни слова, запели колядки. Гуцульские. Подольские. Полтавские. Как они пели! Это был профессиональный четырехголосный хор. Мы с женой стояли очарованные, не скрывая восторга. Как мы жалели, что, собираясь к друзьям, не позаботились о выпивке и закуске! Дома хоть шаром покати.
Жена принесла из кухни бутылку вина и коробку конфет и положила в торбу хориста, наряженного козой. Я внимательно разглядывал лица, надеясь увидеть хоть одно знакомое. Вероятно, это студенты. Но определенно не медики. Хоть одного бы я узнал. Капельмейстер, судя по возрасту, преподаватель, пожелал нам исполнения желаний в новом году, сердечно пожал руку и не расслышал моего вопроса о том, как они на нас вышли. Каждый из хористов, кланяясь, прошел мимо нас к двери, не произнеся ни слова.
Мы с женой еще несколько минут безмолвно смотрели друг на друга. Она даже не спросила меня, кто это приходил нас поздравить. По моему виду ей был очевиден ответ. Я и сегодня не знаю ни того, каким образом на нас свалилась такая радость, ни того, кем были эти замечательные хористы.
В Киеве даже среди друзей немногие знали, что, кроме историй болезни и научных статей, я иногда еще кое-что пописываю. Убежден, не знал этого и украинский писатель-фантаст, пришедший в то утро ко мне на работу в больницу. Мы не были близко знакомы, раскланивались при встречах. Поэтому меня удивил его приход.
— Глубокоуважаемый доктор, — начал он, естественно, на украинском языке, но как-то слишком официально, я сказал бы, даже торжественно, — сегодня в восемнадцать часов в кинотеатре «Украина» состоится премьера кинофильма «Тени забытых предков». Вот два билета. Ваше с женой присутствие на премьере окажет честь украинской элите Киева. Я уверен, кинофильм режиссера Сергея Параджанова доставит удовольствие вашей жене и вам.
Поблагодарил и сказал, что, надеюсь, мы сможем прийти.
Нас удивило количество людей на улице перед кинотеатром, стремящихся попасть на премьеру. Жена, более прочно и устойчиво стоящая на земле, заметила, что это не просто премьера, что назревает какое-то событие, а количество и настроение людей очень похоже на несанкционированную демонстрацию. Она не ошиблась. Нас радостно поприветствовали писатель-фантаст, патологоанатом и еще несколько знакомых украинцев.
Как обычно, по причине инвалидности я сел в крайнее правое кресло у прохода. Слева, рядом с женой, сидел какой-то генерал-майор, которого ни до этого, ни после я никогда не встречал. В зале действительно собрался цвет киевской интеллигенции. Разумеется, речь идет только о тех, кого я знал. На сцене перед экраном сидели человек десять. Пытаюсь в памяти воссоздать картину и подсчитать точно. Увы, не удается. Помню только, что в центре сидел Сергей Параджанов, справа от него — молодые актриса и актер, исполнители главных ролей в фильме, слева — оператор, костюмер, редактор, художник и еще несколько человек, которых Параджанов представил публике. Его рассказ об экранизации повести Михаила Коцюбинского, о поисках актеров — исполнителей главных ролей, о съемках в Карпатах был не просто интересным — захватывающим. Говорил он по-русски. Но тут на авансцене появился невысокого роста мужчина средних лет и очень логично на отменном украинском языке, постепенно отходя от темы фильма, начал рассказ о репрессиях среди украинских журналистов, об арестах журналистов во Львове. Я и сейчас не знаю фамилии выступавшего. Но, вероятно, он был хорошо известен большинству присутствовавших. Речь его прерывалась то аплодисментами, то гневными выкриками в разных концах зала.
— Уважаемые добродии, — со слезами на глазах провозгласил он, — эти аресты — проявление фашизма, который мы, знающие, что такое фашизм, не вправе допустить. Кто против фашизма, встаньте!
Публика начала подниматься. Встали и мы с женой. Ее сосед совершал мелкие колебательные движения, все еще не отрываясь от кресла. Не представляю себе, как этот генерал-майор принимал решения в чрезвычайных обстоятельствах. Тут он являл собой образец предельной растерянности. Я решил прийти ему на помощь:
— Вы не против фашизма, товарищ генерал-майор?
На мгновение маска беспомощности сменилась гримасой ненависти. Генерал что-то пробормотал и поднялся.
Обстановка накалялась. По проходу в отчаянии металась директор кинотеатра, моя бывшая пациентка. Увидев меня, чуть ли не закричала:
— Ион Лазаревич, что делать?
— Спокойно, Лидия Андреевна. Начните демонстрацию фильма.
Она кивнула и бросилась в конец зала. Начался фильм. Аудитория почти успокоилась. Почти, потому что многие кадры сопровождались аплодисментами и даже выкриками.
Когда экран погас, на авансцене снова появились молодые актеры и Параджанов. Заслуженная овация была прервана украинской речью того самого человека, который призывал встать всех, кто против фашизма. Никогда раньше и, пожалуй, никогда позже в Советском Союзе мы не были свидетелями подобной демонстрации. Долго еще я вспоминал ее.
Ни имена, ни судьбы арестованных во Львове украинских журналистов мне не были известны. Конечно, я не мог не сочувствовать им. Но все это было где-то на периферии сознания. Другое дело, когда к судьбе украинского националиста — личности заслуженной и очень известной — мне пришлось прикоснуться лично.
Ранняя осень 1953 года. Моя будущая жена потащила меня в компанию своих приятелей на танцевальный вечер. Экипированный более чем скромно, к тому же инвалид, передвигающийся с помощью палочки, я не испытывал восторга от участия в таких вечерах. Но ведь это желание любимой девушки, для которой танцы — часть ее существа. Мог ли я отказать ей? Следует заметить, компания была весьма симпатичной. Я втиснулся в угол старого кожаного дивана и смотрел на танцующих. Спустя какое-то время рядом со мной разместился парень, с виду на несколько лет старше меня. Разговорились. Представились друг другу. Так я узнал, что мой сосед — известный украинский поэт Мыкола Руденко. Мне нравились его стихи. Он воевал, был тяжело ранен, но инвалидность, которую ему установили при выписке из госпиталя, не продлевал, не проходил мучительных комиссий ради девяноста рублей в месяц старыми деньгами. Знаменитый поэт не нуждался в ничтожной подачке.
Обычно я никому не читал свои фронтовые стихи. И стихи, написанные уже после войны. Я был достаточно напуган разносом, учиненным мне в Москве летом 1945 года в Доме литераторов, где мои стихи — стихи ортодоксального коммуниста — почему-то посчитали антисоветскими. А Мыколе стихи понравились. Оба мы были огорчены, что уже полночь, что гости расходятся, что мы не успели вволю поговорить. Мыкола оставил мне номер своего телефона и настойчиво приглашал к себе.
Его квартира была неподалеку от института, в котором я работал и жил. К сожалению, времени для визитов я не имел. В редкие свободные минуты мне хотелось побыть со своей будущей женой. И все же в один из вечеров заскочил к Руденко. За пять лет до этого я написал повесть о войне. Ни один профессиональный литератор ее не видел. А мне все-таки хотелось услышать мнение профессионала.
Дня через три Мыкола пришел ко мне в институт. Принес рукопись. Кстати, у меня был только один рукописный экземпляр — до собственной пишущей машинки я еще не дожил, а финансы не позволяли дать отпечатать текст машинистке. Более чем положительная оценка повести уважаемым мною поэтом обрадовала меня. Не огорчило даже, что, по мнению Мыколы, ее нельзя опубликовать. Очень уж в ней война такая, какую мы видели и пережили, а не такая, какой она описана в советской литературе. Не огорчило? Ну, как сказать… Просто после московского разноса я понял, что я какой-то не такой, какой-то неправильный. И как хорошо, что литература — не моя профессия. В тот день Мыкола сказал, что очень хочет познакомить меня с Виктором Некрасовым и что хорошо бы Некрасову прочитать мою повесть.
Не знаю, как так получилось, но с Некрасовым он меня не познакомил. Знакомство состоялось спустя несколько лет при обстоятельствах случайных — в ту пору я еще не знал, что нет ничего случайного, — и постепенно переросло в дружбу. Но другу Вике я так и не показал повесть. Не знал он даже, что у меня есть стихи и рассказы. На фоне классика, как мы, друзья Некрасова, его называли, мои писания казались мне просто убогими, недостойными занимать время замечательного писателя.
Вероятно, то, что я осмелился прочитать свои стихи в первый вечер знакомства с Мыколой, было просто порывом, вспышкой, которая объяснялась обстановкой танцевального вечера, когда два инвалида должны были коротать время на диване, не принимая участия в веселье. Через несколько лет он выбрал из моих стихов не лучшее, но, как он выразился, наименее одиозное стихотворение и перевел его на украинский язык. Я восторгался переводом, считая его сильнее оригинала. Но жена, мой самый строгий и непримиримый критик, не соглашалась с этим.
Шли годы. С Мыколой мы встречались нечасто. Честно говоря, меня это огорчало. Огорчения усилились, когда из приласканного властями поэта он превратился в диссидента. Мне не хотелось, чтобы у него создалось впечатление обо мне как о человеке, для которого именно этот остракизм стал причиной редких наших встреч. Хотя он не мог не знать — и я в этом вскоре убедился, — что именно тогда я стал весьма почитаемой украинскими националистами личностью. Знал. Именно ко мне он обратился, когда его украинский национализм подвел его к роковой черте.
В тот день он пришел ко мне домой.
— Ион, мне нужна ваша помощь. Я накануне посадки. Вам известно о моей инвалидности, которую я не оформлял официально. Такая справка может пригодиться мне в тюрьме. Возможно, в какой-то степени она облегчит мою участь.
— О чем речь? Сейчас же напишу.
— Нет, ваша подпись не годится. Мало того, что вы еврей, вы к тому же еще не на хорошем счету у них, без всякого отношения к еврейству.
Я не стал выяснять, каким образом он узнал о том, на каком я счету у властей предержащих. Кое-что мне самому было известно. Я пообещал Мыколе сделать все возможное, хотя в ту минуту еще не очень четко представлял себе, что можно предпринять. Мы посидели, поговорили. Мыкола с улыбкой рассказал мне, что ему известно, как хор студентов — украинских националистов — пришел к нам домой колядовать, продемонстрировав отношение к еврею, мягко говоря, не весьма почитаемому властями.
На следующий день я пришел в ортопедический институт. Не знаю, почему, обратился к доктору Вернигоре. Фамилия его соответствовала габаритам. Тяжеловес на полголовы выше меня. Я ничего не знал о его мировоззрении. Я вообще ничего не знал о нем. Я не знал, как он относится ко мне, кроме того, что, пожимая мою руку своей лапищей, он выражал восторг по поводу того, что я мог оказать ему сопротивление.
— У меня к тебе просьба, — сказал я ему, — обследовать пациента с тяжелым ранением крестца со всеми сопутствующими прелестями и дать ему справку о его состоянии.
— Какие могут быть разговоры? Понимаю, что по какой-то причине вы не можете или не хотите дать такую справку…
— Ты сформулировал не совсем точно. Я могу и хочу. Но пациенту не подходит моя подпись.
— Понимаю.
— Но понимаешь ли ты, что я не могу гарантировать тебе отсутствие неприятностей, если ты дашь такую справку?
Доктор Вернигора внимательно посмотрел на меня.
— Догадываюсь, что это какой-нибудь украинский националист.
— Возможно. Не знаю, в чем его обвиняют.
— Видная личность?
— Очень. Мыкола Руденко.
— Пусть придет. А вам я благодарен за доверие.
Прошли многие годы. Бережно сохраняю благодарность доктору Вернигоре за то, что он оказался человеком в стране, в которой в ту пору быть человеком было не только неуютно, но даже опасно.
Мыкола Руденко получил необходимую справку.
Прошло тридцать лет с того дня, когда мы с женой расстались с Киевом. Многое в мире изменилось за эти годы. Украина стала самостийною. Не знаю, какую роль играют в ней те украинские интеллигенты-идеалисты. Не знаю, нравится ли им нынешняя самостийная Украина. Увы, многих уже нет в живых. Им не приходится разочаровываться и стыдиться, задумываться над тем, оплачены ли в этой самостийной Украине страдания идеалистов. Стоило ли Мыколе Руденко выбросить на свалку свое советское благополучие и гнить в тюрьме…
А вот нравится ли мне мой нынешний Израиль — страна, о которой я так долго мечтал, не зная, что я сионист, точно так же, как мольеровский Журден не знал, что всю жизнь говорил прозой? Бывший советский невыездной, вместе с женой я побывал в шестидесяти пяти странах. В некоторых — по нескольку раз. Среди них встречались весьма привлекательные. Речь идет не о пейзажах. В некоторых из них отрицательных сторон, возможно, меньше, чем в Израиле. Впрочем, мне трудно судить об этом.
Но ведь Израиль — мой, родной, со всеми своими недостатками и пороками. Наш сын тоже не без недостатков. Но когда через несколько лет после нашего приезда в Израиль два генерала — командующий ВВС и командующий военно-морскими силами — независимо друг от друга с небольшим разрывом во времени произнесли одну и ту же фразу: «Жаль, что ты не привез десять таких сыновей», я ощутил прилив гордости за сына и благодарность нашим генералам. Точно так же, несмотря на недостатки и пороки Израиля, я люблю эту удивительную страну, которая, как живое существо, отвечает мне своей любовью. Тем более что передо мной — внушительный список таких достижений, которым могла бы гордиться самая цивилизованная страна.
Пусть Израиль, в котором я сейчас живу, не похож на тот идеальный Израиль, о котором мечтал в Киеве, я не готов променять его на самое благополучное, самое цивилизованное государство. Увы, действительность нечасто совпадает с идеалом.
Забавно было бы сейчас побеседовать с патологоанатомом об украинском национализме и сионизме.
2009 г.